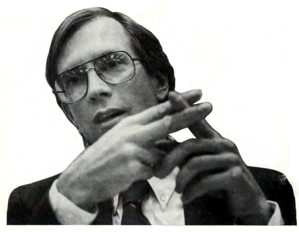
у
Не бойтесь тёмных комнат! "Химия и жизнь", № 12, 1988
|
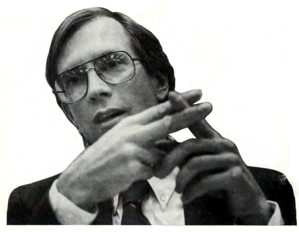 |
|
| Томас Чек пытается на пальцах объяснить журналистам, сколь изощрённа в своих действиях молекула РНК у |
Не бойтесь темных комнат!
Широко известен афоризм, приписываемый великому Конфуцию: «Трудно найти черную кош-ку в темной комнате, особенно если ее там нет». В многотрудных исследованиях ученых не раз была проверена справедливость этого утверждения, хотя в темной комнате порой что-то и обнаруживали, но, как правило — не кошку. Томас Чек, профессор Колорадского университета (США) тоже вел неутомимые поиски втемную, пока в точности не доказал, что комната и впрямь пуста.
Сам Чек называет свое открытие случайным. В конце семидесятых годов он изучал чрезвычайно важный для деятельности живой клетки процесс: так называемое созревание рибонуклеиновых кислот, РНК. Томас Чек воспроизводил этот процесс в пробирке, пытаясь выяснить, какие минимальные условия необходимы, чтобы созревание могло произойти.
Конечно, ни у кого не вызывало сомнений, что этот процесс идет с участием биологических катализаторов — ферментов. Но раз ферменты — значит, белки. С 1926 года, когда был выделен первый фермент, уреаза, и до настоящих дней открыто много ферментов, и все они — белки. Правда, в ферментах часто обнаруживали небелковые компоненты, но действующим началом неизменно был белок. Это устанавливали многократно, и казалось, иного и быть не может.
Чек вместе со своим упорным и талантливым аспирантом А. Заугом тоже искал белки, управляющие данным превращением РНК. Безрезультатно! Наконец, Чек посмотрел правде в глаза и нашел в себе смелость заявить, что кошки нет, а РНК — сама себе катализатор. Таким образом, занимаясь проблемой нуклеиновых кислот, он сделал открытие в науке о ферментах. И только в этом смысле его открытие молено считать случайным.
Первая статья об РНК-ферментах появилась в 1982 году и сразу стала сенсацией. Это и понятно. С точки зрения РНК-катализа, мы совершенно новыми глазами можем посмотреть на многие известные биохимические процессы, и прежде всего — на возникновение жизни на Земле. Как и всякое серьезное открытие, эта работа повлекла за собой каскад новых исследований; число публикаций в этой области растет чрезвычайно быстро. Но все-таки значение открытия пока еще полностью оценить трудно. Оно относится к разряду фундаментальных представлений о живой природе и не сулит немедленно практических приложений. «Химия и жизнь» уже подробно рассказывала об РНК-катализе в этом году. Но, по-видимому, читателю будет интересно вернуться к непривычному пока феномену, тем более, что на этот раз он получит информацию прямо из первых рук. Ниже публикуется беседа, которую профессор Чек провел с журналистами на 14 Международном биохимическом конгрессе в Праге в июне 1988 г.
Кандидат биологических наук Э. М. БЕКМАН
Интервью Томас ЧЕК:
«Кто бы мог подумать, что РНК способна работать ферментом?»
Была ли у вас уже изначальная гипотеза о том, что РНК может обладать каталитическими свойствами, или вы наткнулись на свое открытие случайно?
Совсем случайно! Ничего подобного мы и не предполагали. Кто бы мог подумать, что РНК способна работать ферментом?
Цель нашей работы поначалу состояла в том, чтобы понять, как «созревает» молекула — как из очень длинной РНКовой копии гена вырезаются ненужные, безынформативные куски, а оставшиеся смысловые участки соединяются в единую молекулу. Этот процесс называют сплайсингом по аналогии с разрезанием и сращиванием морского каната. В данном случае роль каната играет молекула РНК.
Мы были уверены в том, что, как и все процессы в клетке, сплайсинг ведут белки. И что этих белков несколько — одни разрезают, другие сшивают... Мы стали искать такие белки-ферменты. Но как мы ни старались, выделить их в чистом виде не могли. В препаратах всегда оказывалась РНК. Тогда мы начали думать, что есть какой-то очень необычный белок, который буквально сцеплен с РНК. Начали проверять эту гипотезу. Ничего не получалось.
И тогда пришлось допустить, что никакого белка тут нет вообще. Все дело в самой РНК — она обслуживает себя сама. Режет, выкидывает, сшивает, то есть ведет самосплайсинг.
Как видите, для нас самих открытие было абсолютно неожиданным.
Так или иначе, открытие состоялось. И оказалось, что РНК — катализатор.
Значит ли это, что она во всех случаях может брать на себя роль фермента?
Нет, открытое нами свойство — скорее исключение в мире катализа, чем правило. Безусловно, в «окончательном» списке ферментов окажется гораздо больше белков, чем РНК. Хотя случаев РНК-катализа с каждым годом становится известно все больше и больше.
Значит, белки все-таки лучше приспособлены для работы в роли биохимических катализаторов?
Несомненно. Ведь они по своему строению более разнообразны, чем РНК. В белках больший набор каталитических групп. Поэтому они управляются и с сахарами, и с аминокислотами, и с нуклеотидами, и с полимерными цепями. То есть и с большими, и с малыми молекулами. Ясно, что у РНК возможности куда ограниченнее. Я не думаю, что РНК могла бы участвовать во всех подобных превращениях.
Но зато у нее то преимущество, что она может работать сама с собой, не требуя помощи белка.
Тут нет никакого фундаментального различия. Какая разница — белок или РНК проводит реакцию?
Но все-таки ваше открытие меняет представление о роли РНК. Как это скажется на дальнейших исследованиях?
Теперь, какие бы разновидности РНК мы ни изучали, обязательно придется иметь в виду, что эти молекулы могут действовать как катализаторы.
Значит ли это, что давно и хорошо изученные рибосомные и транспортные РНК могут что-нибудь катализировать?
Френсис Крик сказал как-то, что транспортная РНК все время силится стать ферментом. Он имел в виду, что ее пространственная структура по сложности приближается к структуре фермента. Но мне кажется, что лучше обратить внимание на рибосомную РНК. Это составная часть рибосомы — устройства для синтеза белка в клетке. В состав рибосомы, кроме РНК, входит множество белков — около сотни.
Совсем еще недавно думали, что РНК выполняет здесь роль каркаса, который заполнен белками. И что основная роль в работе рибосомы отведена белкам. Теперь же, когда мы узнали, что РНК сама может быть катализатором, приходится пересмотреть эти представления. Высказывается даже поразительное предположение, что именно РНК есть каталитический центр белкового синтеза. Правда, строгих доказательств этому нет, и не исключено, что каталитический центр состоит как из белков, так и из РНК.
Но даже если это и так, то рано отбрасывать идею исключительности РНК — ведь вполне возможно, что на заре возникновения жизни система белкового синтеза состояла только из РНК. Иными словами, «доисторическая» рибосома могла обходиться вообще без белков.
Значит, ваше открытие вторгается в одну из фундаментальных загадок природы — происхождение жизни. Ваша «доисторическая» рибосома без белков позволяет высказать еще более странное предположение. Может быть, не только первые рибосомы, но и вообще первые формы жизни, вероятно — доклеточные, тоже обходились без белков, а значит, и без рибосом?
С биохимической точки зрения, у живого есть две характерные особенности. Во-первых, это хранение и передача генетической информации: когда из одной клетки получаются две других, то молекулы наследственности удваиваются, и информация передается следующему поколению. Во-вторых, это катализ всех химических реакций в клетке, потому что без катализа они идут так медленно, что для завершения некоторых реакций не хватило бы времени существования Вселенной. До недавних пор бытовало четкое представление: информация содержится в нуклеиновых кислотах, катализом ведают белки. Но давайте поразмышляем: когда жизнь только зарождалась, что появилось раньше — информация или катализ, то есть, нуклеиновые кислоты или белки? Многие ломали голову над этой проблемой.
Один из возможных вариантов ответа таков: белки и нуклеиновые кислоты эволюционировали параллельно. Теперь мы знаем, что РНК может нести и информацию, и каталитическую нагрузку. Значит, появляется новый вариант ответа: в начале жизни были именно РНК. Это привлекательная гипотеза, потому что мы обнаружили способность РНК участвовать еще и в другой каталитической реакции без помощи белков — в сборке нуклеотидов в длинные цепи. Такая сборка лежит в основе возникновения первой самовоспроизводящейся системы — неотъемлемого признака живой природы.
Но так ли обстояло дело 4 миллиарда лет назад — сказать трудно. Поэтому я и употребляю для этой гипотезы термин — привлекательная.
Есть ли в этой привлекательной гипотезе место для ДНК?
Возможно, что ДНК это итог естественного отбора, в результате которого формировались молекулы с двуспиральной структурой и несколько иной химической природой — они делают молекулу неспособной к каталитическим превращениям. Вероятно, клетке нужна нуклеиновая кислота, которая не делает ничего такого интересного, как катализ, а просто служит очень стабильным хранилищем информации.
По-видимому, потребуется время, чтобы получить здесь полную ясность. А что наиболее интересного вы успели узнать еще о своем предмете исследования?
В моем ответе прозвучало, что есть большие отличия ДНК от РНК. Это действительно так. Но вот удивительный факт, который подчеркивает неожиданное сходство в превращениях этих молекул в клетке.
Вы, наверное, знаете, что есть специфические ферменты, разрезающие ДНК — это рестриктазы. Такие ферменты очень важны для биотехнологии. Благодаря их способности узнавать определенные короткие сочетания нуклеотидов в ДНК и резать молекулу именно в этих местах, стало возможным создать технику рекомбинантных ДНК.
Для РНК природа не припасла подобных белков. Но теперь мы знаем, что существуют такие РНК-ферменты, мы называем их рибозимами, которые могут разрезать молекулу РНК в специфических участках — аналогично тому, как это делают рестриктазы с ДНК.
Какие же это участки?
РНК строится из четырех нуклеотидов А, Г, Ц, У. Так вот, рибозим раскусывает РНК после сочетания ЦУЦУ. Но больше того, специфичность рибозима можно искусственно менять. Методами генной инженерии мы создали двадцать разных вариантов рибозимов, каждый из которых режет молекулу РНК после своего специфичного набора из четырех оснований.
По существу, мы создали не что иное, как РНК-рестриктазы. Я думаю, что они могут сыграть такую же большую роль, как ДНК-рестриктазы. Но мы еще только в начале пути.
Найдут ли ваши работы какое-нибудь практическое применение?
Сейчас об этом идет много разговоров. Есть болезни, которые вызываются вирусами, содержащими РНК или проходящими через стадию образования РНК (это полиовирус, вирус простуды, онковирус, вирус СПИД). Если бы можно было ввести в клетку, зараженную вирусом, один из таких рибозимов, которые могут разрезать только вирусную РНК, то эти РНК-рестриктазы вполне подошли бы на роль терапевтических средств. Но я что-то сомневаюсь, сможем ли мы одолеть очень серьезную практическую проблему — доставить эти средства в клетку-мишень.
Если все же затея удастся, то лечить можно будет и людей, и животных, и растения.
Беседу записала В. ЧЕРНИКОВА
Фото Павла ГОРЕЙШИ